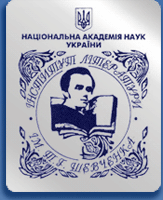Книга: Общее языкознание - учебник 
реализаций36; указание на более
или менее употребительную форму (лексему, конструкцию) из числа вариантных
реализаций; указание на различную сферу употребления языковых явлений,
относящихся к норме, или на различные условия их употребления.
Точность кодификации, ее соответствие объективной норме в значительной степени
зависят от языкового чутья нормализаторов, отражаясь вместе с тем в системе
помет, используемых для характеристики соответствующих явлений в нормативных
словарях и грамматиках37.
Весьма существенным для оценки сознательной нормализации языка представляется
нам то обстоятельство, что объект коди<576>фикации практически никогда не
совпадает полностью с общим объемом языковых явлений, входящих в литературную
норму.
Относительно узкая сфера языковых признаков, являющихся объектом кодификации,
выступает особенно отчетливо, если принимать во внимание и историческую
расчлененность, неодновременность кодификации явлений, относящихся к разным
аспектам языка. Сравнительно поздно по времени и не всегда отчетливо
кодифицируется, например, большинство синтаксических явлений, а также
распределение вариантных реализаций, связанное с функционально-
стилистическими разграничениями литературного языка. К числу
некодифицируемых или слабо кодифицируемых явлений относится и частотность
употребления отдельных словоформ лексем и синтаксических конструкций. Лишь в
некоторых случаях в нормативных пособиях и словарях приводятся частотные
характеристики, как правило, они сводятся к общим и довольно неточным
указаниям типа «продуктивно», «непродуктивно», «чаще», «реже» и т. д. Данное
обстоятельство следует отнести как за счет сложности точных характеристик
нормативных явлений, так и за счет несовершенства и приблизительности
некоторых форм кодификации, что приводит в ряде случаев к неправильной или
неточной фиксации нормативных явлений.
Причиной «ложной» кодификации может служить субъективизм оценок,
недостаточность или неточность статистических данных, стремление
нормализаторов к искусственному выравниванию форм «по аналогии», узкое
понимание социальной, территориальной и функциональной основы норм, а также
неверная оценка исторических тенденций развития языка.
Факты подобного рода наблюдаются в истории различных литературных языков. Так,
например, в Германии в первой половине XVIII столетия И. Готтшед ратует за
сохранение трех форм zwen — zwo — zwei, отражающих родовую дифференциацию
соответствующего числительного, уже исчезавшую из употребления (заметим, что
данные формы были в системе немецкого языка изолированными, так как для других
числительных подобной дифференциации не существовало). Закрепление этих форм в
грамматиках на некоторое время задержало их исчезновение
38, хотя на конечный результат процесса это обстоятельство существенного
влияния не оказывает. Впрочем, в некоторых условиях консервация архаических
форм в процессе кодификации литературной нормы может надолго задержать их
исчезновение, ср., например, длительное сохранение системы трех родов в
письменной форме нидерландского языка [55].<577>
Искусственное поддержание архаических форм иногда имеет своей причиной и
стремление к парадигматическому единообразию форм, в ряде случаев
противоречащее реальному историческому развитию языка (ср., например, для
немецкого языка встречающуюся еще в XVIII в. глагольную форму 2 л. ед. ч.
kцmmt по аналогии с stцЯt, или такие формы, как gehet, stehet, которые долгое
время поддерживались нормализаторами, несмотря на явную тенденцию к
сокращению их употребления, наблюдавшуюся уже в XVIII столетии).
Другая сторона данного явления связана с неверной оценкой новых, развивающихся в
языке явлений и также со слишком узким пониманием отдельными нормализаторами
территориальной, социальной или функциональной основы литературной нормы.
Такова, например, борьба с так называемым «именным стилем» немецкого языка,
основанная отчасти на игнорировании тех тенденций развития, которые
наблюдаются в деловом языке и языке науки. Заметим, что тенденция к широкому
распространению именных конструкций (например, типа русск, заявить протест;
нем. Abschied nehmen 'попрощаться') характерна не только для немецкого языка, но
и для ряда других европейских языков. Так, для чешского языка ее в свое время
отметил В. Матезиус, подчеркнувший вместе с тем преимущественное употребление
именных конструкций в определенных сферах письменного общения [59, 389].
Кодификация литературных норм, безусловно должна опираться на изучение языка
разных функциональных разновидностей и учитывать существующие различия в
употреблении отдельных языковых явлений, входящих в литературную норму. В
последнее время вопрос этот, активно разрабатывающийся в отечественной
лингвистике, ставится на материале «культуры речи» разных языков [85; 96].
Успех сознательной нормализации языка зависит таким образом от соблюдения
целого ряда условий, сформулированных наиболее отчетливо пражцами [10, 136].
К их числу относятся следующие моменты: 1) нормализация должна способствовать
стабилизации литературного языка, не нарушая его структурных особенностей; 2)
нормализации не следует углублять различий между устным и письменнным языком;
3) нормализация должна сохранять варианты и не должна устранять
функциональных и стилистических различий.
К этой характеристике можно, по-видимому, добавить лишь одно: в процессе
сознательной нормализации (т. е. кодификации норм) литературного языка должны
приниматься во внимание особенности нормализации явлений, относящихся к
разным подсистемам языка.
Определяя роль кодификационных процессов для разных сторон системы литературного
языка, В. Матезиус писал: «Лингвистическая теория вмешивается прежде всего в
норму правописания,<578> в меньшей мере... в его фонетику, морфологию,
синтаксис и меньше всего в его структуру и в лексику» [54]
39. Вместе с тем с его точки зрения, для всех уровней языковой реализации
сохраняет свое значение борьба с архаизмами, а также поддержание вариантов,
выражающих функциональные различия. Особенно важен этот последний аспект для
синтаксических и лексических явлений, где число параллельных конструкций и
лексем, закрепляемых нормой литературного языка, обычно особенно значительно.
Для орфографии, которая является продуктом «чистой условности» [53, 389],
кодификационные процессы играют наибольшую роль. Они в значительной мере
формируют саму орфографическую систему, приводя ее в соответствие с
фонологической и фонетической системами. Впрочем, момент стихийности все же
имеет место и при нормализации орфографии: он может быть отнесен за счет
исторической традиции, известным образом затрудняющей и замедляющей действие
кодификации. Из-за необходимости сохранять преемственность письменной традиции
полная «оптимализация» орфографических правил оказывается практически не всегда
возможной, чем и объясняется существование ряда исключений, а также сохранение
некоторого числа вариантных написаний, нарушающих регулярность и простоту
орфографической системы.
НОРМА ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ
Определяя специфику литературной нормы на основе более широкого и общего понятия
языковой нормы, следует еще раз подчеркнуть, что для национального
литературного языка характерно усиление устойчивости, стабильности норм
40, а также увеличение их избирательности и дифференцированности (нормы
устной и письменной форм литературного языка, нормы разных функциональных
разновидностей литературного языка).
Названные выше специфические признаки литературной нормы появляются, однако, не
сразу, а складываются постепенно по мере формирования литературного языка.
Поэтому необходи<579>мыми аспектами изучения литературной нормы является
ее историческое рассмотрение. Важность данного аспекта исследования была
настоятельно подчеркнута В. В. Виноградовым [15, 6—9], заметившим, вместе с
тем, что «динамическая» характеристика нормы имеет весьма существенное значение
и для общего понимания генезиса и развития литературного языка [14, 7—8 и 26].
Согласно нашему пониманию языковой нормы, ее характер обусловливается, с
одной стороны, структурной организацией данного языка, а с другой —
исторической традицией, определяющей привычные, устойчивые формы реализации
этой структуры. Взятая с этой точки зрения история литературной нормы — это
история языковой традиции, действующей в рамках структурных возможностей
языковой системы и опирающейся, вместе с тем, на процессы сознательного
регулирования отдельных способов и форм традиционной реализации языка.
Определяя литературную норму как историческую категорию, следует с самого
начала настоятельно подчеркнуть неразрывность ее статических (выделение и
изучение признаков нормы) и динамических (рассмотрение становления и
изменения этих признаков) характеристик. Непосредственная связь этих двух
сторон выступает весьма определенно, например, при изучении нормализационных
процессов. Выше мы определили нормализацию как совокупность сознательных и
стихийных процессов отбора нормативных реализаций (см. стр. 574). Вместе с
тем нормализация может и Должна рассматриваться и как непрерывный
исторический процесс, приводящий к оформлению и изменению литературных норм
(см. также [5]). Тесная связь исторического аспекта рассмотрения нормы с ее
статическими характеристиками проявляется и в том, что последние в
значительной мере зависят от тех исторических условий, в которых формируется
определенная литературная норма. Так, например, степень вариантности норм
литературного языка может в некоторой степени зависеть от того, насколько
однородной (или разнородной) является генетическая основа данного
литературного языка и в какой мере влияли на него в процессе формирования
различные языковые системы, контактировавшие с ним. Правда, такая связь
далеко не во всех случаях отчетливо выражена (ср., например, данные,
приведенные Д. Брозовичем для типологической характеристики славянских
языков [7, 29]), так как степень вариантности нормативных реализаций
определяется и многими другими причинами: степенью развития общественных
функций литературного языка, историческими условиями его нормализации и т. д.
Исторический аспект характеристики литературных норм разработан для разных
языков еще весьма мало. Представляется, однако, возможным выделить и кратко
охарактеризовать некоторые существенные, с нашей точки зрения, моменты,
связанные с процессами формирования и изменения норм.<580>
Историческая основа литературных норм
Формирующиеся литературные нормы обычно имеют некоторую территориальную
основу, а также известную социальную и функциональную базу (язык определенных
видов письменности или сфер устного общения, носителями которого являются те
или иные общественные слои). Однако, как уже отмечалось выше, литературная
норма редко полностью совпадает с каким-либо территориальным или социальным
узусом.
В территориальном плане ведущую роль для формирующейся литературной нормы
обычно играют центральные районы страны, группирующиеся вокруг столицы (ср.
роль языка Москвы, Парижа, Лондона, Праги, Пекина, Ташкента и т. д. для
соответствующих литературных языков).
Вместе с тем территориальная основа литературной нормы может быть
охарактеризована и с точки зрения ее большей или меньшей однородности. Часто
наблюдающаяся гетерогенность системы литературного языка вызывается
различными историческими причинами. К наиболее вероятным из этих причин
обычно относят неоднородность диалектной базы литературного языка, а также
сдвиги диалектной основы или историческую смену одной основы — другой. Так,
большинство славянских языков отличается исходной гомогенностью [7, 23 и
след.]. Исключение в этом плане составляет словенский язык, а отчасти также
хорватский (в его обеих разновидностях) и чешский языки. Однако по второму
признаку (обновление исходной структуры) гетерогенные черты имеют
украинский, польский, словенский, болгарский и отчасти сербохорватский, т.
е. довольно значительное число славянских языков. Большинство германских
языков — немецкий, нидерландский, английский, норвежский — также отличаются
гетерогенностью, связанной с разными историческими причинами.
Неоднородность литературной нормы нидерландского языка определяется фактом
исторического взаимодействия фламандско-брабантской и голландской диалектных
областей, наблюдавшегося в XVI—XVII вв. в связи с передвижением
политического и экономического центра страны на север и упадком ее южных
провинций [32; 55; 56]. Происшедшая при этом смена диалектной базы явилась
результатом сложного взаимодействия южной литературной традиции И
разговорного языка северных голландских провинций.
Соответствующая характеристика литературной нормы немецкого языка определяется
смешанным характером восточносредненемецких диалектов, легших в его основу, а
также интенсивным взаимодействием локальных литературных традиций, опиравшихся
на разные диалектные группы [26; 27].<581>
Гетерогенность литературной нормы английского языка была связана со смещением
его диалектной базы и проникновением в лондонский диалект восточно-центральных
элементов, что сопровождалось вытеснением из языка Лондона ряда исконных
южных; черт (см. подробнее [80; 81; 82])
41. Кроме того, для всех рассмотренных выше германских языков были
характерны также разнообразные иноязычные влияния, в разной степени
отразившиеся в их современных литературных нормах.
Определенная территориальная ориентировка литературных, норм, наиболее ясно
ощущающаяся на ранних этапах формирования национальных литературных языков,
сочетается с некоторыми социальными и функциональными ограничениями
исходного узуса.
В социальном аспекте носителями формирующихся литературных норм могут быть —
в зависимости от конкретных исторических условий — более или менее широкие
социальные группировки, причастные к культуре и образованию. Так, в качестве
основы произношения чешского литературного языка называют не просто
произношение жителей столицы, но — прежде всего — произношение образованных
слоев населения Праги. Подобную же роль сыграло для нормализации русского
литературного языка произношение московской интеллигенции.
Отмечая опору нормализационных процессов на язык определенных сфер и форм
общения, следует прежде всего выделить роль письменного языка: его
относительная статичность, фиксированность и широкая сфера его использования
приводят к тому, что письменный язык оказывается удобной основой
нормализационных процессов. Что касается тех видов письменности, которые
можно считать наиболее существенными для становления литературной нормы, то
многие исследователи подчеркивают ведущую роль художественной литературы в этом
процессе [25; 54; 82]. Однако в зависимости от исторических условий для разных
языков и различных периодов их развития важную роль играют и другие виды
письменности: деловая проза, язык науки и т. д. Поэтому несмотря на то, что
художественная литература весьма существенна для становления литературных норм,
она, как справедливо замечает Р. А. Будагов [8, 33], не может рассматриваться
как их единственная опора. Вполне возможно предположить, что роль отдельных
видов письменности была различной для истории разных литературных идиомов.
Укажем, например, на значи<582>тельное, место деловой письменности в
истории немецкого литературного языка, или на роль делового, «приказного»
языка для определенных периодов истории русского языка XVI—XVII вв. [18, 111].
Отметим также все возрастающее значение языка науки для современных
литературных норм.
Наиболее общей для разных литературных языков исторической тенденцией
является расширение социальной и функциональной основы норм, а также
постепенная демократизация норм, связанная с расширением социальных функций
литературного языка и ростом его функционально-стилистического
многообразия. Поэтому наблюдающаяся обычно в начальный период становления
литературных норм более тесная их связь с определенным узусом в дальнейшем
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
|