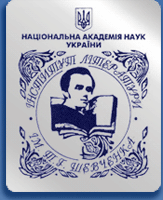Книга: Общее языкознание - учебник 
именно к единичным фактам, к отдельным изменениям в их совокупности — другого
способа обнаружить эту систему у нас нет. С другой стороны, само наблюдение за
совокупностью фактов, выражающих и манифестирующих эволюцию языка, позволяет
разграничить общие тенденции и отклонения от них, регулярные сдвиги и сдвиги
частного характера, явления профилирующие и ограниченные и т. п. Априорная
абсолютизация системного принципа как ведущего принципа в эволюции
фонологической системы кажется нам поэтому неопределенной. В силу качественной
неоднородности наступающих изменений одни из них имеют прямое отношение к
перестройке языка в целом, другие же как бы скользят по ее поверхности,
оставаясь на периферии системы или даже вообще ее не затрагивают. А. Мартине,
оценивая статус различных фонем в конкретном языке, говорил, что одни из них
полностью включаются в систему, другие же характеризуются разной степенью
вхождения в нее [42, 115—117]. Можно, по-видимому, представить себе
существование и таких частных явлений, которые остаются вообще вне системы.
Если бы<268> все языковые феномены являлись непременно составными
частями системы языка, вряд ли существовала бы настоятельная необходимость
оперировать двумя такими нетождественными понятиями, как «язык», с одной
стороны, и «система языка», с другой. Сказанное имеет прямое отношение и к
определению внутренних причин языкового развития (см. ниже). Все соображения,
которые здесь были высказаны, относились, строго говоря, к звуковым изменениям.
Аналогичные заключения можно, по всей видимости, сделать не только о
фонетических преобразованиях, но и об изменениях, происходящих на других
уровнях языка.
Отрицая системный характер языковых изменений, Соссюр был неправ хотя бы
потому, что родственные языки вполне закономерно связаны между собой сетью
определенных корреспонденций и соответствий, и потому, что история отдельных
языков изобилует случаями регулярных системных сдвигов (типа, например,
великого сдвига гласных в истории английского языка). Он был прав лишь в том
отношении, что отдельное историческое изменение не в состоянии ни создать, ни
перестроить какой-либо целостной системы. Вместе с тем он не учитывал того
важного обстоятельства, что языковое изменение может быть продиктовано
требованиями перестройки существующей системы и может повлечь за собой такие
следствия, которые сделают необходимым дальнейшее преобразование системы в
каких-то определенных звеньях. Заслуги пражских лингвистов и заключаются, в
частности, в том, что они первыми обратили внимание на существование
указанных возможностей. В истории языков действительно могут наблюдаться
изменения, обусловленные требованиями системы и влекущие за собой новые
изменения в ее устройстве. Ответив положительно на вопрос о том, могут ли в
истории языков совершаться изменения, вызванные непосредственно наличной
системой, мы должны также ответить и на вопрос о том, а всегда ли в качестве
причины языковых изменений выступает система языка. Ответ на этот вопрос уже
был, собственно, дан выше, когда мы подчеркнули двойственную природу
изменчивости языков. Подобная точка зрения в современном языкознании не
является общепринятой.
Некоторые ученые полагают, вслед за Соссюром, что поскольку система «в самой
себе неизменчива» [69, 91], она и не может содержать внутри себя каких-либо
стимулов к изменению: согласно этим взглядам, языковая система была бы без
воздействия внешних факторов «обречена на вечную устойчивость, на
неподвижность» [115, 5—6]. Но внутренние законы развития системы языка,
несомненно, существуют. К таким импульсам можно, по-видимому, отнести давление
системы, влияние отдельных профилирующих принципов организации языка в целом
(ср. тенденции аналитизма и тенденции синтетизма), влияние некоторых принципов
организации частных подсистем (ср. тенденцию к заполне<269>нию пустых
клеток и известной симметрии в фонологических системах, принцип
парадигматического выравнивания в морфологии, принцип пропорциональности в
развитии словообразовательных систем и т. п.). Близки к ним и структурные
импульсы, связанные с сеткой существующих отношений и с созданием строго
выдержанных оппозиций по тем или иным признакам. Вместе с тем хотим
подчеркнуть, что нельзя провести знака равенства между внутренними мотивами
перестройки языка и собственно системными или структурными импульсами подобной
перестройки. Иначе говоря, мы полагаем, что в числе факторов, обусловливающих
реорганизацию языка, факторы системные и структурные составляют только часть
причин внутреннего порядка. И эта точка зрения не является общепринятой. По
мнению некоторых языковедов, все изменения в языке обусловлены его наличной
структурой [27, 190 и сл.; 96] и все внутренние причины языковых изменений
структурно мотивированы. Представляется, однако, что концепции этого рода
проистекают из нежелательного смешения понятия языка с понятием его системы.
Итак, решение проблемы системности языковых изменений связано с преодолением
значительных трудностей, вызываемых как неопределенностью исходных понятий (в
частности, отсутствием строгого определения такого понятия, как система),
так и чрезвычайной трудностью разграничения отдельных причин, вызвавших то
или иное изменение. О затруднениях этого рода нагляднее всего
свидетельствует обращение к фактическому материалу, демонстрирующему не
только исключительное разнообразие конкретных форм изменений, но и
нетождественность непосредственных причин, их обуславливающих и, наконец,
неодинаковый статус отдельных изменений с точки зрения наличной системы языка
и путей ее реорганизации.
Проблема системности языковых изменений в фонологии
Импульсы, вызывающие изменения в языке, могут быть весьма разнообразными.
Причинами изменений звуковой системы языка могут, например, являться импульсы,
не продиктованные требованиями перестройки фонологической системы. Вряд ли
можно утверждать, что развитие паразитарного согласного t между
спирантом s и следующим за ним r в таких случаях, как русск.
просторечн. страм из срам, нем. Strom 'течение' из
первоначального srom продиктовано требованиями системы. Появление лишнего t
в этих случаях не производит никаких сдвигов в фонологической системе языка.
Превращение k в аффрикату č перед гласными переднего ряда е
и i в итальянском и румынском языках также не было вызвано требованиями
фонологической системы. Причиной<270> этого изменения первоначально была
артикуляционная аттракция k перед е, и i сильно
палатализовалось. Далее произошло ослабление участка напряжения.
Примером изменения, не продиктованного давлением системы, может быть изменение
задненёбного k в тегеранском диалекте персидского языка в задненёбное
фрикативное γ, ср. γorb 'близость' < qorb, γorban 'жертва'
< qorban, mдγbare 'место погребения' < mдqbare, lдγдb 'титул,
прозвище' < lдqab и т. д. Задненёбное фрикативное γ существовало в
персидском языке и прежде, особенно в начальной позиции, например, γдrb
'запад', γorur 'гордость' и т. д. Можно полагать, что ничего существенного
изменение q в γ к фонологической системе персидского языка не
прибавило.
В чувашском языке, как и в татарском, существуют редуцированные гласные о и с.
В чувашском языке объем этих гласных по сравнению с татарским заметно
расширился за счет превращения нередуцированных гласных в редуцированные в
некоторых позициях, ср. чув. вăрман 'лес', но тат.
урман 'лес'; чув. вăхăт, но тат. вакыт 'время';
чув. йăнăш, но тат. я?ыш 'ошибка'; чув.
ăнăс, но тат. у?ыш 'успех'. Однако это изменение не
привело к каким-нибудь заметным изменениям фонологической системы чувашского
языка. Могут быть случаи, когда импульс, вызвавший звуковое изменение, не был
продиктован первоначально требованиями системы, но его конкретные результаты
тем не менее приводят впоследствии к изменению фонемного состава языка.
В истории башкирского языка, как и в ряде других языков Волгокамья, татарском и
чувашском, существовала сильная тенденция к ослаблению смычки при произношении
аффрикат и взрывных согласных. В результате этой тенденции аффриката с
через промежуточную ступень ts превратилась в θ, ср. тат. ча?гы
— башк. са?гы 'лыжи'; тат. чуртан — башк. суртан
'щука'; тат. беренче — башк. беренсе 'первый'; тат. борчак —
башк. борсак 'горох' и т. п. Старое z превращалось в межзубное
z (δ), ср. тат. каз — башк. ка? 'гусь'; тат. зур —
башк. ?ур 'большой'; тат. кыз — баш. кы? 'девушка'; тат.
йоз — башк. йо? 'сто' и т. д. Старое d в интервокальном
положении также превращалось в межзубное z, ср. тат. идэн —
башк. и?эн 'пол'; тат. Идел — башк. И?ел 'Волга' и т. д.
Можно предполагать, что тенденция к ослаблению смычки в некоторых языках
Волгокамья не была продиктована системными требованиями. Во всяком случае нет
никаких данных, указывающих на это. Однако это первоначальный импульс, не
вызванный требованиями системы, привел к таким результатам, которые вызвали
целый ряд изменений, направленных на улучшение существующей системы.
Превращение старого č в s вызвало, по всей видимости,
избыток s, нарушивший распределение спирантов в башкирском языке.
Начальное s превратилось в h, ср. тат. сары — башк.
hары 'желтый'; тат. сандугач — башк. hандугас 'соловей' и т.
д. Конечное старое<271> s, а также s в интервокальном
положении перешли в межзубное θ, ср. тат. ис — башк. из
'чувство, сознание, память'; тат. кис — башк. каз 'режь', тат.
исqн — башк. изqн 'здоровый' и т. д. Любопытно, что при этом была
использована та же тенденция к ослаблению смычки.
Таким образом, импульс языкового изменения, который в своем исходе не был
мотивирован системными требованиями, привел в конечном счете к возникновению
в системе языка ряда новых фонем.
Параллельно описанным изменениям существуют и звуковые изменения, продиктованные
потребностями перестройки фонологической системы языка. Каждый язык, по всей
видимости, стремится сохранить какой-то минимум полезных фонематических
противопоставлений. Если нарушение этого минимума начинает создавать
коммуникативные неудобства, в системе фонем языка начинают происходить
определенные изменения, имеющие своей целью восстановление нарушенного
равновесия. Так, например, в нововерхненемецкий период долгие гласные i
, u, iu, превратились в дифтонги. Гласный i > ei
[ae], u > аи [ao], iи > еи[Oш]. Отсюда ср.-в.-нем.
min — совр. нем. mein 'мой', ср.-в.-нем. ful 'ленивый' — совр. нем. faul,
ср.-в.-нем. tiutsch — совр. нем. deutsch 'немецкий' и т. п. Дифтонгизация
гласных фонем i, u, iu привела к их исчезновению из
фонетической системы. Однако образовавшаяся брешь была тотчас же заполнена
долгими фонемами i, и, ь, возникшими благодаря стяжению дифтонгов ie,
uo, ье, ср.:
ie > i [i:]
ср.-в.-нем. совр. нем.
hier 'здесь' hier
schief 'косой' schief
brief 'письмо' Brief
uo > u [u:]
ср.-в.-нем. совр. нем.
bluome 'цветок' Blume
bluot 'кровь' Blut
buoch 'книга' Buch
üе > ü [y:]
grüene 'çåëåíûé' grün
küene 'ñìåëûé' kühn
grьezen 'приветствовать' grьssen<272>
Древние индоевропейские гласные е и о в древнеиндийском и в
иранском языках превратились в а. Общий объем гласного а в этих
языках сильно увеличился. Надо полагать, что это обстоятельство нанесло
известный ущерб арсеналу смыслоразличительных средств указанных языков.
Необходимо было в какой-то мере компенсировать утраченные e и о
. Эта компенсация была осуществлена за счет монофтонгизации древних дифтонгов.
Так, например, дифтонг ai превратился в др.-инд. в ē, ср.
греч. a†?w 'жгу' — др.-инд. ēdha? 'топливо', греч. fљretai— др.-инд.
bharatē 'его несут'. Дифтонг ei также дал в древнеиндийском е,
ср. др.-инд. dēvah, др.-лат. deivos 'класс', лат. deus, лит. dievas 'бог';
др.-инд. ēti, греч. eЌsi, лит. eiti 'идет' и т. д. Такая же участь
постигла и дифтонг oi, ср. греч. oЌda 'я знаю', др.-инд. vēda.
Дифтонг аи превратился в древнеиндийском в ō, например,
лат. augeo 'умножаю', др.-инд. ōja? 'сила'; лат. sausas, др.-инд.
sōja? 'сухой'. Дифтонг еu дает др.-инд. ō, например,
др.-инд. ōjami, греч. eЮw, лат. uro < euso 'гореть'. Наконец, дифтонг
ои в древнеиндийском также превращается в ō, ср. лит. laukas
'поле', лат. lucum < loukorn 'роща', др.-инд. lōka? 'свободное место,
пространство' и т. п.
Очень интересной с этой точки зрения является история вокализма и консонантизма
чувашского языка. Древнее а в начальном слоге слова превратилось здесь
в и через промежуточную ступень о, ср. чув. turt 'тянуть', но
тат. tart, чув. puś 'голова', но тат. baj и т. д. После этого превращения
общий объем а в чувашском языке в известной степени сократился. Эта
утрата была компенсирована превращением д в а, др.-чув.
kääč 'вечер' — совр. чув. kas, др.-чув. kдp 'форма' — совр. чув.
kдp. Древнее i в чувашском языке перешло в редуцированное q,
ср. чув. рql и тур. bilmek 'знать', чув. рqr и тур. bir 'один'. Таким образом
i в чувашском утратилось. Однако эта утрата была компенсирована тем, что
древнее e сузилось в i, ср. ногайск. bet 'лицо', но чув. pit,
тур. уеl 'ветер', но чув. śil'. Древнее и в чувашском
превратилось в редуцированный гласный q?, ср. тур. durmak 'стоять', но чув.
ter, ногайск. buz 'лед', но чув. рq?r и т. д. Любопытно, что в чувашском языке
появилось новое и из древнего о, ср. тур. уоl 'дорога', но чув.
śul, тур. yok 'нет', но чув. śuk и т. д.
Нельзя, конечно, представлять дело таким образом, что утрата любой фонемы в
языке вызывает необходимость ее компенсации. Можно найти немало случаев, когда
утраченные фонемы не компенсируются. Прибалтийско-финские языки утратили
довольно большое количество фонем, которые в ходе дальнейшего развития языка не
были восстановлены. Утраченные во многих славянских языках носовые гласные не
компенсируются. Эти факты лишний раз свидетельствуют о том, что различные
импульсы и движущие силы, управляющие механизмом регулирования фонематического
равновесия, еще в деталях не выяснены.<273>
Тенденция к созданию симметричной системы фонем
Если система фонем в том или ином языке не обладает достаточной степенью
гармоничности и стройности, в языке возникает стремление к большой её
упорядоченности. Пермским языкам, например, присуща редкая корреляция по
глухости и звонкости:
Глухие p, t, t’, s, s’, љ, c’, č, k противопоставлены
Звонким b, d, d’, z, z’, ћ, Z’, Z?, g.
Первоначально звонкие согласные возникали только внутри слова. Позднее они
распространились и на начало слова [128, 194].Следствием этой тенденции
являются процессы, которые фонологи называют заполнением пустых клеток.
В качестве примера можно взять вокализм первого слога в позднем
общеприбалтийскофинском языке. Первоначально эта система была представлена в
таком виде:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
|