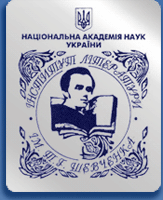Книга: Общее языкознание - учебник 
операциональными, так как ответная реакция на знак-сигнал, как правило,
выступает в виде действия, операции или поведения. Сигналы в буль шей
степени, чем знаки-признаки, обладают возможностью опосредования реальных
ситуаций, конкретных действий.
Совершенно особое место занимают сигналы условно-рефлекторной деятельности у
животных (первая сигнальная система) и словесные знаки — вторая сигнальная
система у человека, развившаяся в результате общения людей как средство
отвлеченного, обобщенного отражения объективной действительности.
Не входя в обсуждение этого вопроса, следует отметить, что эти два различных
типа сигнальных систем настолько кардинально отличаются друг от друга, что
представляется едва ли правомерным называть языковые знаки — слова — сигналами
сигналов [56, 209—215; 45, 128—149]. Хотя сигналы животных, а иногда и сигналы
строго «организованных» систем, так называемых инстинктивных языков (schemata)
163], тоже представляют собой опосредствованный способ регулирования и
приспособления (а иногда и предварения) поведения животных, языковые знаки — в
отличие от них — неразрывно связаны с человеческим мышлением.
Обра<108>зуя уникальную знаковую систему, способствующую отвлеченному,
обобщающему отражению объективного мира, они служат формированию понятийного
мышления.
«Языковые знаки — это условные раздражители, создаваемые обществом,
обладающие системным характером, намеренно и сознательно употребляемые каждым
членом социального коллектива, выполняющие не только сигнальную, но и
сигнификативную функцию, являющуюся средством обобщенного концептуального
отражения действительности и служащие целям коммуникации — сознательной
передачи людьми информации друг другу» [45, 143].
По сравнению с сигналами животных, обладающими лишь свойством регулирования
поведения, знаки человеческого языка обладают такой совокупностью функций,
какой не обладает ни одна семиотическая система (ср. функцию обозначения,
функцию обобщения и т. п., отмеченные выше).
Если языковые знаки, удовлетворяя всем этим функциям, связаны с процессами
дифференциации и интеграции, присущими уровню понятийного мышления, с актами
понимания и семантической интерпретации знаков в процессе общения, то знаки
прочих семиотических коммуникативных систем выполняют в основном функцию
идентификации и узнавания обозначаемых ими предметов или явлений.
Отличительной особенностью знаков естественных языков по сравнению со знаками
прочих систем является не столько различие в выполняемых ими функциях,
сколько факт взаимообусловленного сосуществования этих функций в пределах
знака, что делает знаковую систему языка глобальной по значению,
многоярусной по структуре, полифункциональной по целям. Так, функции общения
и обобщения находятся во взаимозависимых связях друг с другом: общение между
индивидуумами становится возможным лишь в том случае, если в языковых знаках
и знаковых структурах выработаны всеобщие значимости, и наоборот — такие
надиндивидуальные значения и средства их выражения выкристаллизовываются,
откладываются в результате функционирования языка, в процессе его
коммуникативного использования. Непосредственно связаны и находятся в
определенной иерархической системе и другие функции языка: коммуникативная и
прагматическая, репрезентативная и сигнификативная.
Понимание самого явления знаковой репрезентации, его моделирование, определение
знака и его значения зависят от того, как интерпретируется знаковая система
языка и какой аспект языка — динамический или статический, деятельностный или
структурный — берется за основу. Интерпретация «знаковости» естественного
языка зависит и от того, как определяется сам язык — как знание или как
реальность, как суммативная система средсв, выражения или как знаковая
деятельность, регулирующая внутреннее (психическое) и внешнее поведение
человека. Если в основе<109> определения языка как знакового феномена
лежат коммуникативная и прагматическая функции, наиболее полно раскрывающиеся
в речевой деятельности, то знаковость предстает в виде знакового процесса,
знаковых актов (semiosis, acte semique); если язык квалифицируется как «орудие
формирования и средство функционирования специфически человеческой формы
отражения действительности социально-психической, или сознательной формы
отражения» [35, 35], то знаковость выступает в виде особой «знаковой
деятельности» [13; 15; 28; 34], опредмеченной в языке. В том случае, когда язык
рассматривается как некая данность, сумма средств выражения, обозначения и
обобщения предметов и явлений объективного мира, то знаковость находит
определение в виде системы субстанциональных знаков. Приведем наиболее
типичные определения языка как знаковой системы.
I. Язык — система значимостей, основанных на противопоставлениях знаков,
релевантных для говорящих на данном языке. Знак — двусторонняя психическая
данность, отношение двух дифференциально определяемых ее сторон —
означающего и означаемого; поэтому отличительные особенности знака сливаются
с ним и исчерпывают его. Акцент при определении сущности знаковости
естественного языка перенесен исключительно на структурно функциональную
организацию языка как знаковой системы. Коммуникативная и прагматическая
функции отодвинуты на задний план. Типичным представителем понимания языка
как имманентной структуры является Ф. де Соссюр [52].
II. Язык — формально-логическое построение, строго разделенное на язык как
систему и язык как процесс. Знак определяется функционально и представляет
собой отношение двух функтивов — формы содержания и формы выражения.
Внутренние структурные элементы не имеют одно-однозначного соответствия
плана выражения и плана содержания, квалифицируются как незнакомые элементы
— фигуры плана содержания и фигуры плана выражения. Знаковыми языковые
элементы являются лишь по своим целям, но не по сущности. Знаками являются
элементы языка, стоящие в отношении обозначения к предметам, явлениям
объективного мира.
Классическим примером такого понимания языка как знаковой системы является
глоссематическая теория языка [20].
III. Язык рассматривается как система-языковых средств, находящихся в одно-
однозначном соответствии с предметным рядом: знак понимается
субстанционально, однопланово, сводится к форме знака (sign-expression).
Классическим примером такого понимания семиотической системы языка могут
служить формальнологические исчисления и метаязыки наук [71].
IV. В основу определения сущности языка кладется прагматическая (поведенческая)
его функция; язык сведен к речевым актам. Знак определяется как односторонняя
физическая данность,<110> выступающая в качестве стимула и вызывающая
ответную реакцию. Сущность знаковой репрезентации определяется исключительно в
терминах знакового процесса, конституентами которого являются: знак,
интерпретанта, интерпретатор; значение знака определяется как целенаправленное
поведение (goal-seeking behaviour) и сводится к отношению говорящего и
слушающего [6; 86].
Постановка проблемы и выработка методов изучения естественного языка как
семиотической системы особого рода характеризуется в наши дни общим
стремлением создания лингвистической семиотики, при формировании основных
понятий которой учитывались бы все функции, разные стороны языка, как его
внутренние, так и внешние связи и отношения. «Определить знаковую систему, —
отмечает Г. П. Щедровицкий,— значит задать всю ту совокупность отношений и
связей внутри человеческой социальной деятельности, которые превращают ее, с
одной стороны, в особую «организованность» внутри деятельности, а с другой
стороны — в органическую целостность и особый организм внутри социального
целого. Именно на этом пути мы впервые получаем возможность соединить
развитые в лингвистике представления о речевой деятельности, речи и языке с
семиотическими понятиями знака и знаковой системы» [59, 87]. Рассмотрение
языка как сложного структурного и полифункционального социального явления
находит свое выражение в создании новых семиотических понятий, относящихся
только к естественному языку: понятия номинативных и предикативных знаков,
противопоставление знаков и незнаков, фигур, единиц второго и первого
членения языка, разграничение субстанциональных и операциональных знаков,
виртуальных и актуальных знаков, инвариантного и вариантного в языке.
Учет в языке не только линейных знаков, но и знаков глобальных выдвигает на
повестку исследований проблемы так называемой дискретной лингвистики [53].
ПРИРОДА ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА И ЕГО ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Исходя из общей дефиниции знака как материального предмета, стоящего вместо
другого предмета или явления, обычно делают два неправомерных вывода: 1)
языковой знак — односторонняя сущность; 2) языковой знак — должен быть
обязательно материален.
Общеизвестно, что означающее языкового знака (форма знака) существует в двух
разновидностях: материальной (звуковая или буквенная) и идеальной.
Материальное, в частности звуковой состав слов и высказываний, отражаясь,
обретает форму идеального образа материальной формы знака. Как все идеальное
является<111> генетически вторичным по сравнения) с материальным, так и
звуковой или графический состав языковых знаков выступает первичным по
отношению к его психическому образу, отображению. Существует точка зрения,
согласно которой материальная форма знака необходима в процессе общения, а
идеальная, т. е. умственный образ, необходима для внутренней речи и в процессе
познания. Подобное разграничение сфер функционирования двух разных форм знака
весьма относительно: в процессе общения материальная форма знака релевантна
только для слушающего (воспринимающего) и ее акустическая идентификация
происходит на основании уже имеющегося у слушающего умственного образа или
представления данной материальной формы знака. Для чисто механических
простейших семиотических систем, выполняющих функции сигналов, знак прежде
всего должен выступать как некая материальная данность, в виде акустического
или визуального сигнала. В языковых знаках, особенно словах, его материальная
опора (звуковой состав или его чувственный образ) имеет своеобразный статус. С
одной стороны, из-за теснейшей и неразрывной связи формы знака и его
содержания, из-за автоматизированного характера словесных знаков они обретают
такое свойство, которое именуется «прозрачностью для значения». Сущность этого
свойства знака сводится к следующему: «... воспринимая словесные знаки в
отличие от всех других действительных знаков, мы не воспринимаем их
материальной формы как чего-то автономного, а как раз наоборот, форма эта
сливается со значением так, что за исключением случаев нарушения нормального
акта восприятия мы не обращаем внимания на материальную сторону словесного
знака» [56, 203]. С другой стороны, материальная опора слова является часто
тем постоянным, неизменным в словесном знаке, что помогает ему оставаться
тождественным самому себе в синхронном и диахронном аспектах.
Следовательно, для языковых знаков противопоставление материальной формы
знака и ее чувственного образа как в процессе познания, так и в актах общения
представляется нерелевантным, а затянувшийся споротом, материален или идеален
знак, почти беспредметен, ибо это лишь разные формы манифестации одной и той
же сущности.
Второй характерной чертой любого знака вообще, а языкового в особенности,
является его двусторонняя природа. Так, в системе регулирования уличного
движения при помощи светофора (являющейся классическим примером наипростейшей
семиотической системы) [21], зеленый свет может быть рассмотрен как форма
знака, которой соответствует в пределах этой системы определенное содержание,
значимость 'проезд, движение разрешено'. Следовательно, даже при чисто
условном, механическом соотнесении того, что выражается (обозначается), и
того, при помощи чего выражается (обозначается), элементы данной семиотической
системы выступают как двусторонние сущности, имеющие в ее<112> пределах
форму знака и его содержание, представляющее собой системную значимость.
Зеленый свет вне сигнальной системы не означает 'разрешение на перемещение,
движение', точно так же, как любая корневая или суффиксальная морфема одного
языка не имеет никакой значимости в системе другого. Если элемент не имеет
никакой значимости в данной семиотической системе, он не знак данной системы,
а простой физический звук. Билатеральный характер языкового знака представляет
одну из его существеннейших черт6.
Заслуга Ф. де Соссюра заключается не только в том, что он обосновал принцип
билатеральности языкового знака, но и в том, что он показал, что знак — продукт
осознанной деятельности, закрепленный человеческим сознанием, психикой. Обе
стороны знака — означающее (signans, signifiant) и означаемое (signatum,
signifiй) фиксируются в языке в виде абстракций, отображений того и другого,
хранятся в сознании говорящих в виде значений (языковых понятий) и чувственных
образов знаковой формы. Только единство двух сторон знака делает его средством,
удовлетворяющим социальным Потребностям данной языковой общности людей.
Говоря о соотношении в языковом знаке означающего и означаемого, следует иметь
в виду три разные по степени и характеру обобщения ступени становления знака.
На первой ступени форма знака, последовательность фонем или букв, соотносится
непосредственно с предметным рядом в объективной действительности. Только на
этой ступени языковые знаки можно сравнить с обычным знаком, характеризующимся
одно-однозначным соответствием означающего означаемому; на этой первой ступени
абстракции, замещения предмета возможно реальное разделение означающего и
означаемого. Связь между ними еще не опосредована человеческим сознанием, а
характер обеих сторон приближает языковой знак на этой ступени к чисто
механическим знакам; означающее и означаемое находятся в отношении обозначения.
На второй ступени становления языкового знака мы имеем дело уже с
психическими образованиями: отражение предмета, явления находит свое выражение
в виде образа, представления или понятия на уровне сознания (психики)
отдельного индивидуума. Здесь не только другая ступень абстракции, но и другая
форма соотносящихся сторон знака: означающее и означаемое — обе стороны знака —
выступают в идеальной, а не в материальной форме, а это значит, что обе
стороны являются уже психическими образованиями. Связь между<113> ними
становится обязательной, прочной, и ее расторжение
7 ведет к исчезновению данного знака, т. е. к невыраженности в языковой
форме данного содержания. На третьем этапе, на самой высшей ступени
абстракции, эта связь означающего и означаемого должна быть принята и
закреплена говорящим коллективом; означаемое становится всеобщим для данного
коллектива, за данным понятийным содержанием закрепляется определенная знаковая
форма, и языковой элемент обретает статус языкового знака, где связь
означаемого и означающего становится неразрывной. За знаком закрепляется его
значение.
Те, кто понимает языковой знак как одностороннюю материальную физическую
данность, стоящую вместо другого предмета, явления, обвиняют Ф. де Соссюра в
«дематериализации» знака, а следовательно — языка в целом. Общеизвестно, что
Созсюр не отрицал субстанционального характера разных сторон знака,
утверждая, что «... входящие в состав языка знаки суть не абстракции, но
реальные объекты» [52, 105]. Подчеркивая своеобразие и произвольный характер
связи означающего и означаемого, он увидел в этом факте форму организации
языковой системы. Поэтому критический анализ концепции Ф. де Соссюра может
быть направлен не на то, что он увидел в знаке как материальное, так и
идеальное и при помощи знака задался целью выявить специфические основы
организации конкретных языков, а на то, что он идеалистически решает вопрос о
соотношении объективной действительности, мышления и языка, отведя звукам
роль «посредника между мышлением и языком» [52, 112].
Тезис Ф. де Соссюра о языковом знаке как двусторонней психической сущности
нашел в последующем многочисленных сторонников; развитие этого тезиса шло в
нескольких направлениях.
В глоссематической теории языка знак полностью «дематериализован» и сведен к
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
|