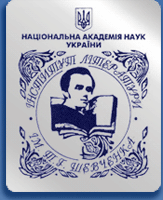Книга: Общее языкознание - учебник 
Жук!).<384>
В системе элементов, составляющих язык, закреплены (зафиксированы) как
значения, связанные с отражением объективной действительности, так и
значения, непосредственно связанные с потребностями коммуникации. При этом
важно подчеркнуть, что соответствующие языковые образования существуют в
языке в качестве полноправных структурных элементов и характеризуются всеми
теми видами связей (отношений), которые характерны вообще для языковой
(парадигматической) системы. Ограничимся здесь одним примером (подробное
рассмотрение языковых значений в этом плане и основные примеры даются ниже).
В каждом языке существуют три вида предложений по цели высказывания (или «по
коммуникативной установке»): сообщение (повествование), вопрос и побуждение. В
парадигматическом плане между ними существует связь оппозиции: Петр сейчас
дома противоположно Петр сейчас дома? и Пусть Петр будет дома.
Основание этой оппозиции имеет коммуникативный характер, оно обусловлено
намерением говорящего: в первом случае сообщить нечто, во втором — желанием
получить некую информацию для подтверждения своего предположения или уточнения
неполного знания; в третьем — желанием побудить к действию. Далее, помимо
отношения оппозиции, которое, по-видимому, нужно признать основным отношением
между языковыми единицами, между этими структурными единицами существуют также
отношения омонимии и синонимии: форма вопроса может быть употреблена в
значении сообщения (риторический вопрос), т. е. возможна нейтрализация,
приводящая тем самым к возникновению синонимии выражения сообщения (ср.
Возможно ли это? в значении 'Это невозможно').
Рассмотрев вопрос о многокомпонентности мышления и многофункциональности языка,
можно прийти к следующему выводу. В плане взаимосвязи языка и мышления — а
может быть, и не только в этом плане — необходимо разграничивать два вида
мышления: 1) познавательное мышление, т. е. отражение, осознание, осмысление
вещей и явлений; 2) коммуникативное мышление, которое можно рассматривать как
переработку уже познанного, известного для себя в информацию для других, иначе
говоря как коммуникативное преобразование определенных знаний. В обоих этих
видах мышления язык участвует в известной степени различным способом и разными
своими сторонами. В познавательном мышлении система уже сложившегося языка,
которым владеет субъект, выступает в первую очередь как базис и как орудие, при
помощи которого и на основе использования средств которого происходит осознание
объекта познания путем анализа, абстрагирования, обобщения. Это формирование —
осуществление мысли в слове. Здесь в психологическом аспекте основным процессом
является, по-видимому, переход от чувственных элементов познания к
понятию.<385>
В коммуникативном мышлении проявляется другая сторона языка и используются
другие его средства — средства упорядочения, выражения и передачи мысли.
Основным процессом в психологическом плане здесь является переход от знания
для себя к оформлению его в качестве сообщения для других. Существеннейшим
моментом в этом процессе является необходимость выбора определенного варианта
из многих существующих в языковой системе, в зависимости от цели сообщения,
отношения говорящего к высказываемому и собеседнику и функционального стиля.
При этом не имеет принципиального значения, происходит ли выбор варианта
импульсивно под непосредственным влиянием эмоций или вопроса собеседника или же
соответствующая форма выбирается, так сказать, сознательно, путем
определенного обдумывания11.
Естественно, что чем сложнее содержание, подлежащее сообщению, тем богаче набор
вариантов и труднее выбор.
Но варианты возможны даже в самых простых случаях. Продолжим пример с жуком,
приведенный выше. В качестве сообщения о познанном факте, знании, что данный
предмет — 'жук', возможны следующие варианты: Это же жук; Смотри, какой
жук!; Не бойся, это жук (скажем, при обращении к ребенку, который не знает,
что это жук).
Таким образом, нужно признать, что мысль и совершается и выражается в слове.
Альтернативное утверждение Л. С. Выготского, что мысль не выражается в слове,
а совершается в нем, было, по-видимому, реакцией на особенно распространенную
в его время формулировку, что мысль выражается в слове (мышление выражается в
языке), и общей направленностью его исследований на изучение внутренней речи в
онтогенетическом плане, в которой, как это доказано самим Выготским и всей его
школой, действительно мысль прежде всего совершается в слове
12.
Итак, со стороны мышления целесообразно различать познавательное и
коммуникативное мышление, а со стороны языка — познавательную и коммуникативную
функцию. Естественно, что это разграничение в известной степени условно.
Естественно также, что не существует каких-то точных границ, глухой стены ни
между видами мышления, ни между функциями языка. Они тесно переплетаются и
взаимодействуют в единой общей картине функционирования языка и мышления. В
единстве познавательного и ком<386>муникативного проявляется единство
биологического и социального компонентов и языка и мышления. Однако в
речемыслительном процессе можно установить проявления специфически
познавательной и специфически коммуникативной сторон, а в языковой системе,
при рассмотрении ее с содержательной стороны, можно установить наличие разных
элементов, связанных преимущественно либо с познавательной, либо с
коммуникативной функцией языка.
И в процессе речи, и в системе языка эти функции языка переплетаются с
экспрессивной функцией: на познавательно-коммуникативное содержание
накладываются различные отношения субъекта, его эмоции, чувства, мотивы, что
еще больше усложняет общую картину связи языка и мышления.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЫЕ ВОПРОСЫ СВЯЗИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
Дифференцированный подход (разграничение познавательного и коммуникативного)
представляется совершенно необходимым при рассмотрении некоторых вопросов,
наиболее часто подвергающихся обсуждению в связи с проблемой взаимосвязи
языка и мышления. В разных формулировках эти вопросы концентрируются вокруг
главного: существует ли полный параллелизм между языком и мышлением?
возможно ли мышление без языка? все ли в языке связано с мышлением?
На вопрос, возможно ли мышление без языка, обычно отвечают отрицательно,
утверждая, что для мышления обязательно участие языка. Но при этом нередко
смешиваются два момента: 1) роль языка как основы, на которой осуществляется
мышление, и 2) непосредственное вербальное (словесное) выражение всех
компонентов мысли в акте общения. Совершенно неправомерно из обязательности
первого выводится необходимость эксплицитного словесного выражения всех
компонентов мысли в каждом предложении
13.
Такой подход обнаруживается, например, в воззрениях на односоставные
предложения, в частности в спорах по поводу того, выражается ли в односоставных
предложениях суждение, которое по природе своей двусоставно, и правомерно ли
усматривать наличие субъекта в таких предложениях, как: Пожар! или
Замечательный вид! и т. п., поскольку он не выражен словесно, не
зна<387>чит ли это допускать возможность выражения мысли вне языка, без
языковой формы. Иногда даже утверждают, что такие предложения не выражают
суждения, так как невозможно сочетание в одном суждении представления
(чувственного восприятия) и понятия — слова (единицы абстрактного мышления).
Разграничение видов мышления и функций языка позволяет уточнить вопрос об
обязательности вербализации мыслительных образований. Познавательное мышление
осуществляется на базе языковой системы через языковые (вербализованные)
модели, в которых зафиксированы в виде языковых значений обобщенные
результаты познавательной деятельности носителей данного языка. Участие
языка здесь обязательно. Однако мысль, возникшая как акт познания, отражающая
некоторый факт, связи между предметами, может остаться и невыраженной
непосредственно в речевой — звуковой или графической — форме.
Это отнюдь не значит, что такая мысль совершается вне языка, не через слова-
понятия и суждения-предложения. Это — мысль на уровне внутренней речи, не
преобразованная коммуникативно.
Для коммуникативного мышления необходимо непосредственное звуковое или
графическое выражение, ибо только через эти формы определенное содержание
может стать достоянием слушающего. Однако и при непосредственном общении
далеко не обязательно эксплицитное выражение абсолютно всех компонентов
содержания высказывания. Часто не выражается, например, эксплицитно то, что
предполагается известным слушающему или общеизвестным (ср. «фоновое» знание у
Бар-Хиллела). Это обоюдно-известное из опыта и есть то, что, как говорят,
становится ясным из контекста или из ситуации.
Итак, целесообразно различать познавательную и коммуникативную вербализацию.
Такой подход снимает сомнения и в отношении односоставных предложений. Они
используются для выражения мысли, отражающей определенный факт
действительности. Эти мысли формируются на базе языка, в чем и проявляется его
познавательная функция. Говорящий прибегает к односоставным предложениям для
выражения мысли-суждения в том случае, если ситуация общения достаточно
однозначна, т. е. для слушающего очевидно, к чему относится предикат
(пожар, замечательный вид и т. д.). Односоставные конструкции существуют в
системе языка и реализуются в речи при определенных условиях общения. В самом
факте наличия односоставных предложений проявляется коммуникативная функция
языка, а в значительной степени и экспрессивная (односоставные предложения
используются особенно часто в эмоциональной речи).
Здесь мы сталкиваемся еще с одним сложным (в теоретическом плане, ибо в
практическом он представляется всем говорящим чем-то само собой разумеющимся) и
давно известным вопросом лингвистики — проблемой имплицитного (сокращенного,
редуцирован<388>ного) выражения мысля в языке, с которой непосредственно
связан вопрос о роли ситуации и контекста в речевой деятельности.
Суть проблемы четко и просто сформулирована еще Н. Г. Чернышевским: «Дело в
том, что мысль не вполне выражается словом — надобно подразумевать то, что
не досказывается. Иначе люди научались бы из книг, а не из жизни и опыта»
[88, 695]. С другой стороны, можно представить себе, насколько громоздким
было бы самое простое общение, если бы все элементы мысли выражались
эксплицитно; в сложных случаях это вообще было бы невозможно.
Мы не можем здесь останавливаться на проблеме имплицитного выражения
подробно. Укажем только, что, по-видимому, следует различать широкое
понимание имплицитности (как оно представлено, например, у Ш. Балли) — его
можно было бы назвать психологическим,— и более узкое — языковое. Различие
заключается в том, с чйм сравнивать имплицитное выражение, что полагать в
качестве его исходного эксплицитного варианта.
Ш. Балли считает высказывание имплицитным не по сравнению с полным выражением,
присущим языковой норме, а по сравнению с психическим процессом образования
мысли, суждения, которое он также понимает широко. Сам Балли подчеркивает, что
собственно экспрессивные высказывания типа Я полагаю, что подсудимый
невиновен в языке далеко не самые распространенные (по сути они, как
правило, искусственны с точки зрения обычного общения). Наиболее
употребительными являются различные имплицитные формы высказывания
(подсудимый виновен), в которых большое значение имеют неартикулируемые
знаки — музыкальные (интонация, паузы, ударение и т. д.) и ситуативные, т. е.
«не только элементы, воспринимаемые чувствами в процессе речи, но и все
известные собеседникам обстоятельства, которые могут послужить мотивом для их
разговора» [6, 43—59]. Заметим, что Ш. Балли обсуждает явление имплицитности
главным образом в связи с модальностью высказывания.
Нам представляется, что с лингвистической точки зрения целесообразно считать
имплицитными такие выражения, которые противостоят «полным» выражениям в
плане языковой нормы (по-видимому, сюда нужно включить и частотность как один
из ее критериев), образуя с ним синонимические ряды. Такие имплицитные
выражения могут быть в различной степени узуальными, поскольку возможность
«неназывания» отдельных компонентов мысли или даже целой мысли заложена в
самой системе языка в виде особых форм и конструкций, которые служат именно
для имплицитного выражения тех или иных элементов мысли-сообщения в
определенных коммуникативных ситуациях. Сюда относятся различные виды
эллипсов — традиционных и продуктивных, в том числе и весьма разнообразные
типы односоставных предложений.
Совершенно особым средством имплицитности, притом одним из самых универсальных,
являются местоименные слова, которые<389> только «замещают» уже
упомянутые предметы или даже целые факты в условиях однозначного контекста, а
не называют их как полнозначные имена.
Таким образом, в языке во многих случаях существуют два (или больше) ряда
вариантов для выражения одного и того же содержания: развернутые и
эллиптические формы. Вслед за Р. Якобсоном, их можно было бы считать двумя
взаимозаменимыми субкодами одного и того же кода (Р. Якобсон высказывает эту
мысль в связи с обсуждением соотношения более архаичных, развернутых форм и
современных, более эллиптических [102, 102]). Этот вид вариантности
(синонимии) существует наряду с ее другими видами в языковой системе и
актуализируется в речевой деятельности в зависимости от речевых стилей.
Широкое использование имплицитные выражения находят в художественной
литературе как особый стилистический прием (недосказанность как вовлечение
читателя в установление связей).
При обсуждении вопроса о том, все ли в языке связано с мышлением, все ли его
элементы выражают мыслительное содержание, намечаются две точки зрения.
Согласно первой, мыслительное содержание выражается только в лексических
единицах языка, поскольку только они выражают понятия; грамматические же
элементы рассматриваются как формально-структурные (строевые), выполняющие
синтаксическую функцию связывания слов в высказывании
14.
Второй подход в противоположность первому исходит из положительного ответа
на данный вопрос. Считается, что каждый элемент языка выражает некое особое
мыслительное содержание.
Эта точка зрения лежит в основе концепций, согласно которым любые различия
между языками рассматриваются как проявление особенностей мышления носителей
этих языков, а из отсутствия в том или ином конкретном языке специальных
средств для выражения того или иного содержания заключается, что данный
компонент действительности (данное понятие) вообще не отражается в мышлении
данного народа.
Так, например, А. Мартине, констатируя наличие различий между языками в плане
первого членения языка, которое заключается в том, что «любой результат
общественного опыта, сообщение о котором представляется желательным, любая
необходимость, о которой хотят поставить в известность других, расчленяется на
последовательные единицы, каждая из которых обладает звуковой формой и
значением», подчеркивает, что фактически каждому языку соответствует своя
особая организация данных опыта15
.<390>
Ш. Балли считает, что «общие характерные черты языка должны придавать
выражению мысли определенный аспект, определенным образом его ориентировать»
[6, 376].
Сравнивая французский и немецкий языки, Ш. Балли выводит их общие
характеристики из отдельных, главным образом, формально-структурных явлений.
Так, например, на основе таких особенностей, как ограниченность безличных
предложений во французском языке и обилие их в немецком, более глагольный
характер немецкого инфинитива и наличие разных вспомогательных глаголов в
пассиве (в немецком werden 'становиться', во французском кtre 'быть' и т.
п.), Балли делает вывод о принципиальном различии между этими языками:
французский язык — «статичен», немецкий — «динамичен», или «феноменистичен».
В этом проявляются, по Балли, различные тенденции мышления:
«Феноменистическая тенденция мыслит положение как результат движения,
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
|