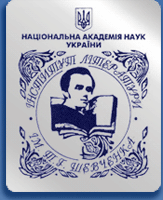Химия актиноидов (актинидов) 
доставлен в Швецию, откуда его на самолете должны были переправить в
Англию, а уж затем в США.
Весь багаж Бора состоял из одной бутылки. Эту обычную зеленую бутылку из-
под датского пива, в которой он тайком от немцев хранил бесценную тяжелую
воду, физик берег как зеницу ока: по мнению многих ученых-атомников, именно
тяжелая вода могла служить замедлителем нейтронов для ядерной реакции.
Бор очень тяжело перенес утомительный полет и, как только пришел в себя,
первым делом проверил, цела ли бутылка с тяжелой водой. И тут, к своему
великому огорчению, ученый обнаружил, что стал жертвой собственной
рассеянности: в его руках была бутылка с самым настоящим датским пивом, а
сосуд с тяжелой водой остался дома в холодильнике.
Когда на гигантских заводах Ок-Риджа, расположенных в штате Теннесси, был
получен первый небольшой кусочек урана-235, предназначенный для атомной
бомбы, его отправили со специальным курьером в скрытый среди каньонов штата
Нью-Мексико Лос-Аламос, где создавалось это смертоносное оружие. Курьеру,
которому предстояло самому вести машину, не сказали, что находится в
переданной ему коробочке, но он не раз слышал жуткие истории о таинственных
«лучах смерти», рождаемых в Ок-Ридже. Чем дальше он ехал, тем большее
волнение охватывало его. В конце концов, он решил, при первом же
подозрительном признаке в поведении коробочки, спрятанной позади его,
бегать от машины что есть мочи.
Проезжая по длинному мосту, шофер внезапно услышал сзади громкий выстрел.
Словно катапультированный, он выскочил из автомобиля и побежал так быстро,
как еще никогда не бегал в своей жизни. Но вот, пробежав изрядное
расстояние, он остановился в изнеможении, убедился, что цел и невредим, и
даже отважился оглянуться. А тем временем за его машиной уже вырос длинный
хвост нетерпеливо сигналивших автомобилей. Пришлось возвращаться и
продолжать путь.
Но едва он сел за руль, как снова раздался громкий выстрел, и инстинкт
самосохранения опять буквально выбросил беднягу из машины и заставил
мчаться прочь от злополучной коробочки. Лишь после того, как разгневанный
полисмен догнал его на мотоцикле и увидел правительственные документы,
испуганный шофер узнал, что выстрелы доносились с соседнего полигона, где в
это время испытывали новые артиллерийские снаряды.
Работы в Лос-Аламосе велись в обстановке строжайшей тайны. Все крупные
ученые находились здесь под вымышленными именами. Так, Нильс Бор, например,
был известен в Лос-Аламосе как Николае Бейкер, Энрико Ферми был Генри
Фармером, Юджин Вигнер — Юджином Вагнером.
Однажды, когда Ферми и Вигнер выезжали с территории одного секретного
завода, их остановил часовой. Ферми предъявил свое удостоверение на имя
Фармера, а Вигнер не смог найти своих документов. У часового был список
тех, кому разрешалось входить на завод и выходить из него. «Ваша
фамилия?»—спросил он. Рассеянный профессор сначала по привычке пробормотал
«Вигнер», но тут же спохватился и поправился: «Вагнер». Это вызвало
подозрение у часового. Вагнер был в списке, а Вигнер — нет. Он повернулся к
Ферми, которого уже хорошо знал в лицо, и спросил: «Этого человека зовут
Вагнер?». «Его зовут Вагнер. Это так же верно, как и то, что я Фармер», —
спрятав улыбку, торжественно заверил часового Ферми, и тот пропустил
ученых.
Примерно в середине 1945 года работы по созданию атомной бомбы, на которые
было израсходовано два миллиарда долларов, завершились, и 6 августа над
японским городом Хиросимой возник гигантский огненный гриб, унесший десятки
тысяч жизней. Эта дата стала черным днем в истории цивилизации. Величайшее
достижение науки породило величайшую трагедию человечества.
Перед учеными, перед всем миром встал вопрос: что же дальше? Продолжать
совершенствовать ядерное оружие, создавать еще более ужасные средства
уничтожения людей?
Нет! Отныне колоссальная энергия, заключенная в ядрах атомов, должна
служить человеку. Первый шаг на этом пути сделали советские ученые под
руководством академика И. В. Курчатова. 27 июня 1954 года московское радио
передало сообщение исключительной важности: «В настоящее время в Советском
Союзе усилиями советских ученых и инженеров успешно завершены работы по
проектированию и строительству первой промышленной электростанции на
атомной энергии полезной мощностью 5000 киловатт». Впервые по проводам шел
ток, который нес энергию, рожденную в недрах атома урана.
«Это историческое событие,—писала в те дни газета «Дейли Уор-кер»,—имеет
неизмеримо большее международное значение, чем сброс первой атомной бомбы
на Хиросиму...».
Пуск первой атомной электростанции положил начало развитию новой отрасли
техники — ядерной энергетики. Уран стал мирным горючим XX века.
Прошло еще пять лет, и со стапелей советских судоверфей сошел первый в мире
атомный ледокол «Ленин». Чтобы заставить работать его двигатели во всю мощь
(44 тысячи лошадиных сил!), нужно «сжечь» всего несколько десятков граммов
урана. Небольшой кусок этого ядерного топлива способен заменить тысячи тонн
мазута или каменного угля, которые вынуждены в буквальном смысле тащить за
собой обычные теплоходы, совершающие, например/рейс Лондон—Нью-Йорк. А
атомоход «Ленин» с запасом уранового топлива несколько десятков килограммов
может в течение трех лет сокрушать льды Арктики, не заходя в порт на
«заправку».
В 1974 году «приступил к исполнению своих обязанностей» еще более мощный
атомный ледокол—«Арктика».
С каждым годом доля ядерного горючего в мировом балансе энергоресурсов
становится все ощутимее. В наше время каждая четвёртая лампочка в России
светит из-за АЭС. Преимущества этого вида топлива несомненны. Но не стоит
забывать об опасности радиации. Миллионы людей пострадали. Среди них больше
100 000 погибли из-за ужасной аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Да и
сейчас территория около ЧАЭС заражена и не пригодна для житья. Пройдёт ещё
не менее ста лет, прежде чем человек сможет вернуться и жить там. Но и без
аварий не так всё гладко. Ведь использование уранового топлива сопряжено со
многими трудностями, из которых едва ли не важнейшая — уничтожение
образующихся радиоактивных отходов. Спускать их в специальных контейнерах
на дно морей и океанов? Зарывать их глубоко в землю? Вряд ли такие способы
позволят полностью решить проблему: ведь в конечном счете смертоносные
вещества при этом остаются на нашей планете. А не попытаться ли отправить
их куда-нибудь подальше—на другие небесные тела? Именно такую идею выдвинул
один из ученых США. Он предложил грузить отходы атомных электростанций на
«грузовые» космические корабли, следующие по маршруту Земля—Солнце.
Разумеется, сегодня подобные «посылки» дороговато обошлись бы отправителям,
но, по мнению некоторых оптимистически настроенных специалистов, уже через
10 лет эти транспортные операции станут вполне оправданными.
В наше время уже не обязательно обладать богатой фантазией, чтобы
предсказать великое будущее урана. Уран завтра—это космические ракеты,
устремленные в глубь Вселенной, и гигантские подводные города, обеспеченные
энергией на десятки лет, это создание искусственных островов и обводнение
пустынь, это проникновение к самым недрам Земли и преобразование климата
нашей планеты.
Сказочные перспективы открывает перед человеком уран — пожалуй, наиболее
удивительный металл природы!
2) Плутоний
С элементом № 94 связаны очень большие надежды и очень большие опасения
человечества.
...Вначале были протоны — галактический водород. В результате его сжатия и
последовавших затем ядерных реакций образовались самые невероятные «слитки»
нуклонов. Среди них, этих «слитков», были, по-видимому, и содержащие по 94
протона. Оценки теоретиков позволяют считать, что около ста нуклонных
образований, в состав которых входят 94 протона и от 107 до 206 нейтронов,
настолько стабильны, что их можно считать ядрами изотопов элемента № 94.
Но все эти изотопы — гипотетические и реальные — не настолько стабильны,
чтобы сохраниться до наших дней с момента образования элементов солнечной
системы. Период полураспада самого долгоживущего изотопа элемента № 94 — 75
миллионов лет. Возраст Галактики измеряется миллиардами лет. Следовательно,
у «первородного» плутония не было шансов дожить до наших дней. Если он и
образовывался при великом синтезе элементов Вселенной, то те давние его
атомы давно «вымерли», подобно тому как вымерли динозавры и мамонты.
В XX веке новой эры, нашей эры, этот элемент был воссоздан. Из ста
возможных изотопов плутония синтезированы двадцать пять. У пятнадцати из
них изучены ядерные свойства. Четыре нашли практическое применение.
С того дня, когда первые ядра элемента № 94 попали к ученым, прошло 34
года. В декабре 1940 года при облучении урана ядрами тяжелого водорода
группа американских радиохимиков во главе с Гленном Т. Сиборгом обнаружила
неизвестный прежде излучатель альфа частиц. с периодом полураспада 90 лет.
Этим излучателем оказался изотоп элемента № 94 с массовым числом 238. В том
же году, но несколькими месяцами раньше Э. М. Макмиллан и Ф. Эйбельсон
получили первый элемент, более тяжелый, чем уран, — элемент № 93. Этот
элемент назвали нептунием, а 94-й — плутонием. Историк определенно скажет,
что названия эти берут начало в римской мифологии, но в сущности
происхождение этих названий скорее не мифологическое, а астрономическое.
Астрономическая параллель
Элемент, занимающий 92-ю клетку менделеевской таблицы, был открыт Мартином
Клапротом в 1789 году и назван ураном в честь самой далекой из известных
тогда планет (ее впервые наблюдал знаменитый астроном Уильям Гершель в 1781
году, за восемь лет до открытия Клапрота.)
Не Уран оказался последней планетой солнечной системы. Еще дальше от Солнца
проходит орбита Нептуна, но и Нептун не последний, за ним — Плутон,
планета, о которой до сих пор почти ничего не известно... Подобное
построение наблюдается и на «левом фланге» менделеевской таблицы: uranium —
neptunium—plutonium, однако о плутонии человечество знает намного больше,
чем о Плутоне. Кстати, Плутон астрономы открыли всего за десять лет до
синтеза плутония, — почти такой же отрезок времени разделял открытия
Гершеля и Клапрота.
"Древо познания добра и зла"
В 1941 году был открыт важнейший изотоп плутония — изотоп с массовым числом
239. И почти сразу же подтвердилось предсказание теоретиков: ядра плутония-
239 делились тепловыми нейтронами. Более того, в процессе их деления
рождалось не меньшее число нейтронов, чем при делении урана-235. Тотчас же
были намечены пути получения этого изотопа в больших количествах...
Прошли годы. Теперь уже ни для кого не секрет, что, ядерные бомбы,
хранящиеся в арсеналах, начинены плутонием-239 и что их, этих бомб,
достаточно, чтобы, как говорят, «нанести непоправимый ущерб» всему живому
на Земле.
Распространено мнение, что с открытием цепной ядерной реакции (неизбежным
следствием которого стало создание ядерной бомбы) человечество явно
поторопилось. Можно думать по-другому или делать вид, что думаешь по-
другому, — приятнее быть оптимистом. Но и перед: оптимистами неизбежно
встает вопрос об ответственности ученых. Мы помним триумфальный июньский
день 1954 года, день, когда дала ток первая атомная электростанция в
Обнинске. Но мы не можем забыть и августовское утро 1945 года — «утро
Хиросимы», «черный день Альберта Эйнштейна»... Те, кому сегодня семьдесят и
больше, помнят первые послевоенные годы и безудержный атомный шантаж —
основу американской политики тех лет. А разве мало тревог пережило
человечество в последующие годы?
Причем эти тревоги многократно усиливались сознанием, что, если вспыхнет
новая мировая война, ядерное оружие непременно будет пущено в ход.
Здесь можно попробовать доказать, что открытие плутония не прибавило
человечеству опасений, что, напротив, оно было только полезно.
Допустим, случилось так, что по какой-то причине или, как сказали бы в
старину, по воле божьей, плутоний оказался недоступен ученым. Разве
уменьшились бы тогда наши страхи и опасения? Ничуть не бывало. Ядерные
бомбы делали бы из урана-235 (и в не меньшем количестве, чем из плутония),
и эти бомбы «съедали» бы еще большие, чем сейчас, части бюджетов.
ато без плутония не существовало бы перспективы мирного использования
ядерной энергии в больших масштабах. Для «мирного атома» просто не хватило
бы урана-235. Зло, нанесенное человечеству открытием ядерной энергии, не
уравновешивалось бы, пусть даже частично, достижениями «доброго атома».
Энергия камней
Оценим энергетические ресурсы, заключенные в природных запасах урана.
Уран — рассеянный элемент, и практически он есть всюду. Каждому, кто
побывал, к примеру, в Карелии, наверняка запомнились гранитные валуны и
прибрежные скалы. Но мало кто знает, что в тонне гранита в среднем
содержится от 4 до 10 граммов урана. Граниты составляют почти 20% веса
земной коры. Если считать только уран-235, то в тонне гранита заключено 6 ·
106 килокалорий энергии. Это очень много, но...
На переработку гранита и извлечение из него урана нужно затратить еще
большее количество энергии — порядка 106 -107 килокалорий. Вот если бы
удалось в качестве источника энергии использовать не только уран-235, а и
уран-238, тогда гранит можно было бы рассматривать хотя бы как
потенциальное энергетическое сырье. Тогда энергия, полученная из тонны
камня, составила бы уже от 8 ·107 до 2 ·108 килокалорий. Это равноценно 16—
40 тоннам угля. И в этом случае гранит мог бы дать людям почти в миллион
раз больше энергии, чем все запасы химического топлива на Земле.
Но ядра урана-238 нейтронами не делятся. Для атомной энергетики этот изотоп
бесполезен. Точнее, был бы бесполезен, если бы его не удалось превратить в
плутоний-239. И что особенно важно: на это ядерное превращение практически
не нужно тратить энергию — напротив, в этом процессе энергия производится!
Попробуем разобраться, как это происходит, но вначале несколько слов о
природном плутонии.
В 400 тысяч раз меньше, чем радия
Уже говорилось, что изотопы плутония не сохранились со времени синтеза
элементов при образовании нашей планеты. Но это не означает, что плутония в
Земле нет. Он все время образуется в урановых рудах. Захватывая нейтроны
космического излучения и нейтроны, образующиеся при самопроизвольном
(спонтанном) делении ядер урана-238, некоторые — очень немногие — атомы
этого изотопа превращаются в атомы урана-239. Эти ядра очень нестабильны,
они испускают электроны и тем самым повышают свой заряд. Образуется
нептуний — первый трансурановый элемент. Нептуний-239 тоже весьма
неустойчив, и его ядра испускают электроны. Всего за 56 часов половина
нептуния-239 превращается в плутоний-239, период полураспада которого уже
достаточно велик — 24 тысячи лет.
Почему не добывают плутоний из урановых руд? Мала, слишком мала
концентрация. «В грамм добыча — в год труды» — это о радии, а плутония в
рудах содержится в 400 тысяч раз меньше, чем радия. Поэтому не только
добыть — даже обнаружить «земной» плутоний необыкновенно трудно. Сделать
это удалось только после того, как были изучены физические и химические
свойства плутония, полученного в атомных реакторах.
Когда 2,70 >> 2,23 (напомним, что в математике знак >> означает «много
больше»)
Накапливают плутоний в ядерных реакторах (до недавнего времени эти
установки называли также атомными котлами). В мощных потоках нейтронов
происходит та же реакция, что ив урановых рудах, но скорость образования и
накопления плутония в реакторе намного выше — в миллиард миллиардов раз.
Для реакции превращения балластного урана-238 в энергетический плутоний-239
создаются оптимальные (в пределах допустимого) условия.
Если реактор работает на тепловых нейтронах (напомним, что их скорость —
порядка двух тысяч метров в секунду, а энергия — доли электрон-вольта), то
из естественной смеси изотопов урана получают количество плутония немногим
меньшее, тем количество «выгоревшего» урана-235. Немногим, но меньшее, плюс
неизбежные потери плутония при химическом выделении его из облученного
урана. К тому же цепная ядерная реакция поддерживается в природной смеси
изотопов урана только до тех пор, пока не израсходована незначительная доля
урана-235. Отсюда закономерен вывод: «тепловой» реактор на естественном
уране — основной тип ныне действующих реакторов — не может обеспечить
расширенного воспроизводства ядерного горючего. Но что же тогда
Страницы: 1, 2, 3, 4
|